Детские травмы. Большинство из нас росли в семьях, где были братья и сестры. И они, безусловно, оказали влияние на формирование личности.
Часто в моей практике встречаются случаи, когда, будучи взрослыми, клиенты всё ещё не могут забыть или простить отношение брата или сестры. Или не могут забыть общую атмосферу семьи, царящую вокруг них.
Сегодня мы посмотрим поближе на то, какое влияние оказывают наши братья и сестры и как это сказывается на взрослой жизни.
Содержание
- Введение
- Ты — лишний
- Стыдно быть собой
- Меня никто не защищал
- Я научился молчать
- Заключение
- Часто задаваемые вопросы
Введение
Детские травмы — это не просто эпизоды боли, которые «перерастают». Это психологические раны, оставляющие след на всю жизнь. Они формируются в моменты сильного стресса, беспомощности и одиночества. Особенно тяжело, когда источником боли становится не чужой человек, а тот, с кем ты делишь крышу, игрушки и детство.
Исследования психиатров Джуди Герман, Бессел ван дер Колка и Жана Лаплана показывают: травмы, пережитые в детстве, глубоко встраиваются в структуру личности. Они могут проявляться спустя десятилетия — в тревожности, агрессии, проблемах в отношениях, неспособности доверять. И всё чаще в фокусе специалистов — не только травмы от родителей, но и от братьев и сестёр.
Почему это важно? Потому что в культуре доминирует образ “близких сиблингов”, которые играют вместе, делятся секретами и защищают друг друга.
Но реальность бывает другой. За закрытыми дверями детских комнат разыгрываются сцены, от которых взрослым становится не по себе: насмешки, унижения, конкуренция, физическое насилие.
Почему в одних семьях дети растут, поддерживая друг друга, а в других — становятся врагами? Всё упирается в атмосферу, которую создают родители.
Если между взрослыми — доверие, ясные границы и внимание к чувствам каждого ребёнка, сиблинги редко превращаются во «внутреннего врага».
Но если ребёнок чувствует, что любовь нужно заслуживать, внимание — отвоёвывать, а жалобы игнорируются, — начинается борьба за выживание.
Эта статья — о тех травмах, о которых не принято говорить. О боли, которую причиняют братья и сёстры, и которую не видно снаружи. Мы рассмотрим четыре формы таких ран: от исключённости до постоянной борьбы за любовь.
Вы узнаете:
– почему эти травмы часто остаются без внимания;
– как родители, сами того не желая, усиливают детскую вражду;
– и почему важно не замалчивать конфликты, даже если «все выросли».
Это разговор не только о прошлом, но и о будущем. Потому что исцеление начинается там, где было признано: да, это было. И это было больно.
Ты — лишний
Иногда эта фраза не звучит вслух. Но она впечатывается в тело, в походку, в дыхание. В то, как человек заходит в комнату и будто извиняется за своё присутствие.
«Ты — лишний» — одна из самых незаметных, но самых разрушающих детских травм. И особенно болезненно, когда это не про школу или улицу, а про семью. Про то место, где, казалось бы, тебя должны были ждать и любить просто потому, что ты есть.
В практике я не раз сталкивалась с такими историями. Женщина 34 лет, успешная, с сильным интеллектом, на сессии не может удержаться от слёз. У неё было трое братьев, и она — младшая. Всё донашивала. Игрушки не покупали. На праздниках — ощущение, что «не до неё».
«Я помню, когда я была в садике, всем купили сапожки, а мне сказали — поноси Ванины. А у Вани были мальчиковые, с зелёной подошвой. Я не хотела идти в них, я просто не хотела идти», — рассказывала она.
Такие детали могут казаться мелочью. Но они складываются в ощущение: меня не видят. Я здесь — случайно. Я не важен.
Это не обязательно про бедность. Часто это — про внутреннюю иерархию, где одному ребёнку можно всё, а другому — “подожди”, “не сейчас”, “будь умницей”.
Ещё один случай — мужчина, 42 года, третий ребёнок в семье. Старший брат — «надежда», средний — «артист», а он… просто был. Говорит: «Меня даже на семейных фото почти нет. А если и есть — я сбоку, у двери».
Взрослая жизнь прошла в бесконечной попытке доказать, что он достоин. Он зарабатывал, угождал, не имел своих желаний. И в 40 лет пришёл с полным ощущением внутренней пустоты.
Такая детская травма не кричит. Она — как тонкий холод, который всё время под кожей. Люди с этим опытом часто боятся занимать место. Садятся на краешек стула. Они говорят тихо, извиняются, когда просят. Им кажется, что просить — это уже слишком. Что для других — можно, а для них — не положено.
Самое страшное — эта травма продолжает жить во взрослой жизни. Она формирует сценарии:
– выбирать «остатки» — в отношениях, в профессии, в одежде;
– соглашаться на меньшее, даже когда есть шанс на большее;
– отвергать своё «хочу», потому что «мне не положено».
На сессиях я мягко помогаю встретиться с этой болью. Разглядеть: ты был не лишним. Ты просто рос среди людей, которые не умели быть внимательными. Это не про тебя. Это про их ограничения.
Когда травма названа, прожита, — меняется многое. Человек начинает чувствовать своё право. Право быть. И право просить. Право занимать место.
Детские травмы не исчезают сами. Их можно носить десятилетиями — и не осознавать, что они управляют каждым шагом. Но когда ты решаешь посмотреть им в лицо — появляется то самое ощущение: «Теперь я здесь. И я не лишний».
А это уже — другая жизнь.

Стыдно быть собой
Это чувство закладывается в раннем детстве. Не как вспышка боли, а как тихий яд.
Стыд — одна из самых незаметных и самых токсичных детских травм. Он не просто вызывает дискомфорт. Он формирует представление: “со мной что-то не так”. Стыд захватывает целиком всю личность. Человек живет с ощущением плохости самого себя в целом.
Чаще всего он появляется именно в детских отношениях — особенно с братьями и сёстрами. Также стыд формируется, когда родители часто стыдят ребенка.
Одна из клиенток, 28 лет, долго не могла понять, откуда у неё панический страх говорить в группе. На работе избегала презентаций, в компании — молчала. На сессиях мы медленно, по шагам, добрались до воспоминания.
“Я в 6 лет читала стихи бабушке. Очень старалась. И вдруг брат начал смеяться. Потом ещё и сказал: «Как ты смешно картавишь!»”.
Это повторялось: в школе, дома, при друзьях. Казалось бы — детская подколка. Но в ней — яд. В ней послание: «не будь такой», «ты нелепа», «тебя стыдно слушать».
Стыд формируется именно так. Через повторяющееся высмеивание, насмешки, поддразнивание. Часто — на глазах родителей. И когда взрослые молчат или тоже усмехаются — у ребёнка не остаётся выхода. Он начинает стыдиться себя.
Своего голоса.
И своих эмоций.
Собственных идей.
Своего тела.
Другая женщина пришла в терапию с заниженной самооценкой. Говорит: «Я всё делаю правильно, но постоянно боюсь, что выставлю себя дурой». У неё были две сестры. Старшая всё время поправляла: как сидеть, как есть, как смеяться. “Стыдно так хохотать”, “Сядь, как девочка”, “Фу, не жуй так”.
Это не про заботу. Это — про контроль. Про постоянное сообщение: «та, какая ты есть, — неудобна».
Во взрослой жизни стыд становится внутренним фильтром. Человек не разрешает себе быть живым. Он всё время подстраивается, угождает, проверяет, как выглядит со стороны.
Он молчит, когда хочется возразить.
Проглатывает боль, чтобы не казаться “слабым”.
Смеётся в ответ на обиду — лишь бы не показаться “обидчивым”.
А внутри — пустота. Или усталость. Потому что жить в маске — тяжело.
В работе с клиентами я часто говорю: стыд — это не врождённое чувство. Оно формируется извне. И его можно трансформировать.
Когда человек встречается со своим детским «я» — тем, кого когда-то высмеяли — и видит в нём не уродливость, а ранимость, — что-то начинает меняться. Возвращается голос. Появляется взгляд.
Человек впервые говорит:
– «Я больше не буду извиняться за то, кто я есть».
– «Я имею право быть живым, странным, ярким».
Детские травмы живут в нас, пока мы молчим о них. Но работа с ними — это не просто разговор о прошлом. Это возвращение себе.
И если вы сейчас читаете и вспоминаете, как вас стыдили — знайте: это не про вас. Это про тех, кто сам боялся своей свободы.
И у вас есть шанс освободиться.
Меня никто не защищал
Это ощущение приходит не сразу. Оно растёт медленно, как дерево с кривыми корнями.
Сначала — просто страх. Потом — бессилие. А потом — убеждение: “меня нельзя защитить, я один”.
Эта детская травма часто формируется в семьях, где старшие братья или сёстры обижают младших. И это не просто мелкие конфликты — это систематическое подавление, насмешки, толчки, удары.
На сессии клиентка, 36 лет, вспоминала:
“Мне было 5. Брату — 10. Он заталкивал меня в шкаф и закрывал на щеколду. Я кричала. Плакала. Но мама говорила — это игры. Что я сама довожу его. Что он просто шалит.”
Когда ребёнок сталкивается с насилием — физическим или эмоциональным — и при этом не получает защиты, в его психике происходят необратимые процессы. Он начинает верить:
– “это нормально”;
– “я сам(а) виноват(а)”;
– “меня нельзя любить”;
– “если молчать, будет не так больно”.
Почему старшие так часто обижают младших?
Они сами наполнены агрессией. Часто — подавленной. Они чувствуют себя лишними, загнанными, отвергнутыми. И, не получив поддержки от родителей, сливают напряжение на того, кто слабее.
Это не про “злость старшего”. Это — про невыносимость детских чувств, с которыми он остался один.
Ещё один случай из практики: парень, 29 лет. Рос с двумя старшими сёстрами. “Они дёргали меня за волосы, называли уродом, смеялись над телом, били по голове. А мама говорила — они девочки, их обижать нельзя”.
Он пришёл ко мне с запросом на «непонятную тревогу». Андрей не доверял женщинам. Он чувствовал себя виноватым, даже когда был прав. И он ни разу в жизни не просил помощи.
Почему родители так часто закрывают глаза?
Потому что им страшно. Признать, что один ребёнок причиняет вред другому — значит признать свою слабость как родителя. А ещё — потому что они сами росли в подобной атмосфере. Где никто никого не защищал. Где обида была нормой.
Но если вы узнали, что в вашей семье происходит насилие — молчать нельзя.
Ребёнок, которого не защитили, будет всю жизнь жить с убеждением, что ему никто не ппоможет. Даже если он взрослый, сильный, успешный.
Что делать?
– Признать, что боль была.
– Остановить агрессию.
– Поговорить с каждым ребёнком отдельно.
– Обратиться за помощью.
На сессиях я часто работаю с этой темой. И каждый раз вижу, как тяжело взрослым людям признать: “в детстве меня не защитили”. Но именно с этого начинается путь.
Путь к тому, чтобы стать себе родителем. Тем, кто уже не оставит себя одного.
Детские травмы живут долго. Особенно те, которые связаны с предательством самых близких. Но даже эту боль можно исцелить.
И тогда появляется новое внутреннее ощущение:
“Я больше не должен молчать. Я могу быть с собой. И я достоин защиты”.

Я научился молчать
Некоторые дети не кричат. Не дерутся. Не жалуются. Они просто замирают. Учатся молчать.
Молчание — это не про скромность. Это про выученную беспомощность.
Это — способ выживания в семье, где слова ничего не меняют.
В отношениях с братьями и сёстрами детские травмы часто формируются не через удары, а через подавление: громкие голоса, насмешки, игнор. И если один из детей активный, резкий, умеет “отстоять себя”, то другой — начинает исчезать.
У меня была клиентка, 31 год. Младшая из трёх. Старшие девочки всегда были “звёздами”: одна — лидер в школе, другая — красавица. А ей говорили: “Ты у нас спокойная, не мешай”.
Она научилась быть “удобной”.
Когда сестры ругались между собой — молчала.
А если обижали — молчала.
Когда хотелось что-то рассказать — сдерживалась.
«Я думала, если буду вести себя тихо, меня полюбят», — сказала она на одной из первых сессий.
Став взрослой, она не умела говорить “нет”. Терялась в общении. Становилась «невидимкой» даже в собственных отношениях.
Такое поведение редко берётся из воздуха. Оно — результат систематического опыта.
Почему в семье молчит один, а другие говорят за всех? Потому что в доме нет пространства, где слышат каждого.
Родители, увы, часто встают на сторону того, кто громче. Кто «старше», «сильнее», «разумнее». А молчание младшего считают удобством: «Он у нас не конфликтный», «Сам по себе», «С ним всё хорошо».
Но за этим молчанием — боль.
Дети не перестают чувствовать, если не говорят. Они просто начинают прятать чувства глубже.
Другой мой клиент, 38 лет. Средний из трёх братьев. Говорит:
«Я всегда был между. Старший кричал, младший плакал. А я просто исчезал. Сидел в углу, рисовал. Ни с кем не ссорился. Никому не мешал».
Сейчас — руководитель отдела. Но боится конфликтов, не выносит прямых разговоров, уходит в себя при любом намёке на напряжение.
Детские травмы, связанные с молчанием, очень живучи. Они мешают взрослым:
– быть в отношениях настоящими;
– просить о помощи;
– защищать свои границы;
– признавать свои чувства.
На сессиях я очень аккуратно создаю пространство, где можно говорить. Без страха и без стыда. Без риска быть наказанным.
Потому что взрослому, который в детстве научился молчать, нужно научиться говорить заново.
О себе.
И о своей боли.
О своём “хочу”.
И это возможно.
Когда человек начинает говорить — меняется всё. Он впервые слышит свой голос. Понимает: он имеет вес. Он может быть услышан.
И самое важное — он больше не один.
Если вы узнали себя в этих строках — не оставляйте эту боль внутри. Её можно прожить. И тогда молчание уйдёт.
А вы, наконец, станете собой.
Заключение
Это не просто детство. Это — корни вашей взрослой жизни.
Детские травмы не остаются в прошлом, если с ними ничего не делать. Они вживаются в тело, в голос, в выбор партнёра, в способ решать конфликты и просить о помощи.
Многие приходят на сессии с жалобой на тревогу, одиночество, неуверенность, проблемы в близости. А под этими слоями — старая боль.
Та, которая родом из семьи.
Когда брат бил, а родители отмахивались.
Или когда сестра унижала, а взрослые только смеялись.
Когда ты плакал, а мама говорила: «Не выдумывай».
Роль родителей в таких историях огромна. Не потому, что они плохие. А потому, что они — те, кто должны были защищать, видеть, различать, разделять ответственность.
И если они этого не делали, ребёнок оставался наедине с ужасом, злостью и бессилием. А потом — с молчанием.
Когда детские травмы не признаны, они повторяются. Человек переносит в свою взрослую жизнь то, что однажды пережил:
– выбирает партнёров, рядом с которыми снова чувствуешь себя «лишним»;
– боится отстаивать границы, потому что в детстве это было опасно;
– молчит, когда больно, потому что «всё равно никто не услышит».
Если боль не проработана — она передаётся дальше. Уже своим детям. Через слова, тон, реакции, молчание.
Можно ли простить братьев и сестёр, которые причинили боль?
Простить — значит, сначала признать, что боль была. Прожить её. Дать себе право на обиду, злость, слёзы. И только потом, если приходит готовность, простить.
Прощение — не оправдание. Это способ вернуть себе силу.
Что делать, если внутри до сих пор живёт бессилие, если вас обижали старшие, а вы не могли ни кричать, ни убежать?
Здесь важно не идти одному.
При физическом или эмоциональном насилии со стороны братьев и сестёр часто требуется работа с психологом. Потому что в таких историях много стыда, страха, злости, обиды и замороженных чувств.
В своей работе я помогаю развернуть эти слои. Медленно, бережно. Чтобы человек снова почувствовал опору. Чтобы внутри вырос голос:
“Со мной это было. Это больше не управляет мной”.
Детские травмы можно исцелить. Они не обязаны становиться вашей судьбой.
Если вы узнали себя в этих строках — не замалчивайте боль.
Потому что молчание продолжает цепочку.
А проговорённая боль может её прервать.

Здравствуйте! Меня зовут Лариса Котенко, я кандидат психологических наук, экзистенциальный психолог, семейный и детский психотерапевт, тренер, коуч. Более 15 лет занимаюсь психотерапией и консультированием, работаю со взрослыми, детьми, семьями. Консультирую очно и онлайн. Позвонить +79219309799 (VK, WhatsApp, Telegram)
Часто задаваемые вопросы
Q: Правда ли, что ссоры между детьми — это норма, и не стоит придавать им значения?
A: Нет, не всякая ссора — норма. Лёгкие конфликты и споры — естественная часть взросления. Но если в семье регулярно присутствуют насмешки, унижения, физическое или эмоциональное насилие между сиблингами, это уже формирует детскую травму. Игнорировать такие ситуации — значит оставлять ребёнка один на один с болью и ощущением беспомощности.
Q: Почему один ребёнок обижает другого, особенно если он старший?
A: Старший может проявлять агрессию, потому что сам не справляется с внутренним напряжением, ревностью или чувством обделённости. Иногда он бессознательно “копирует” модели поведения родителей. Это не делает его “злым”, но требует внимания взрослых. Здесь важно не обвинять, а разобраться, откуда берётся такая агрессия, и научить ребёнка выражать чувства иначе.
Q: Что делать, если я взрослый, но чувствую, что меня до сих пор ранит поведение братьев или сестёр из детства?
A: Это означает, что детская травма не была признана и проработана. Вы можете продолжать неосознанно жить в роли “обиженного”, “лишнего”, “молчащего”, даже если внешне всё благополучно. Это повод обратиться за помощью. Психотерапия даёт возможность вернуться к этим историям с позиции взрослого, назвать боль и выйти из сценария, который больше не нужен.
Q: Можно ли простить сиблинга, который причинял боль, если он даже не помнит об этом?
A: Да, можно. Но прощение — не старт, а результат внутренней работы. Начинать нужно не с прощения, а с признания: “Мне было больно”. Только пройдя через осознание, проживание чувств, работу с последствиями травмы, человек может почувствовать, что больше не живёт прошлым. Даже если брат или сестра не изменились — вы можете освободиться от этой связи.
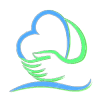





4 комментария “4 детские травмы, о которых не принято говорить: когда боль причиняют братья и сестры”
Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.
Thank you! I`m no problems with the blog
I went over this website and I believe you have a lot of wonderful information, saved to my bookmarks (:.
Magnificent website. Lots of useful info here. I am sending it to some pals ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you on your sweat!